Трудно быть богом цитаты

Девочка с лисьим хвостом. Молодец, Тошка! Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире.
Произведение из раннего творчества писателей: первое издание — год. Антураж средневековья — кольчуги, мечи и подобное — на любителя. Несмотря на бодрое приключенческое повествование, в книге поднимается серьёзная тема о глупости, трусости и ничтожности серой обывательской массы, которой легко может управлять кучка подлецов. Есть как минимум две одноимённые экранизации этой книги. Ни ту, ни другую смотреть не стоит никому.
Если ты умен, образован, сомневаешься, говоришь непривычное — просто не пьёшь вина, наконец! Любой лавочник вправе затравить тебя хоть насмерть. У нас отличные нервы: мы умеем не отворачиваться, когда избивают и казнят. У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадёжных кретинов.
Мы забыли брезгливость, нас устраивает посуда, которую по обычаю, дают вылизывать собакам и затем для красоты протирают грязным подолом…. Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им всё.
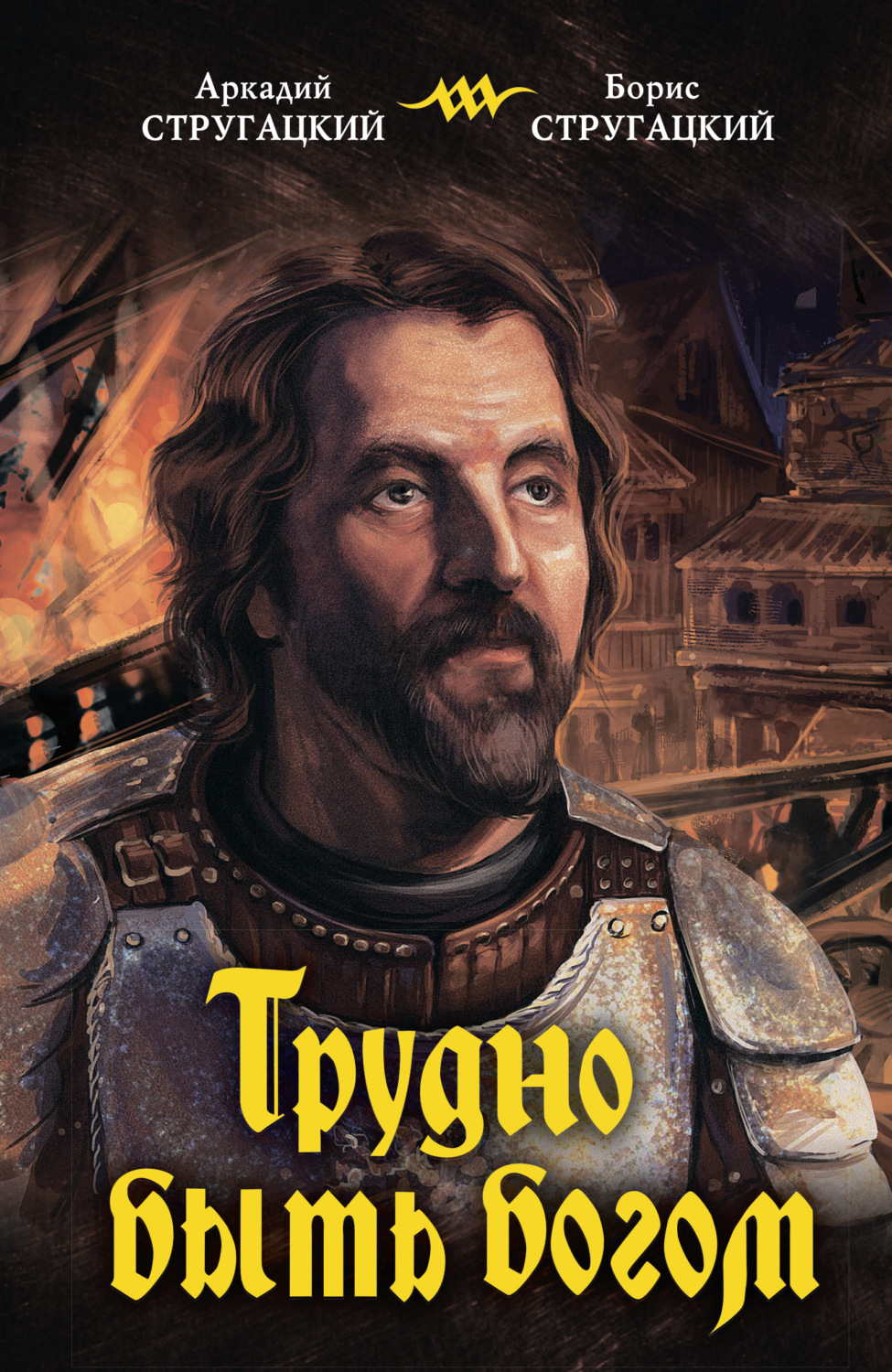
Можно поселить их в самых современных спектроглассовых домах и научить их ионныым процедурам, и всё равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпровождения. В этом смысле дон Кондор прав: Рэба — чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освященных веками, незыблеммых, проверенных, доступных любому тупице из тупиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться.
Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом — рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов.
Огромное большинство из них ни в чем не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться.
Но всё-таки они были людьми, носителями разума. Люди это или не люди? Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди.
Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Эх, братья, жизнь-то какая пошла чудесная!.. Отец Кабани сидел неподвижно, положив обвисшее лицо на ладони. Мохнатые полуседые брови его свисали над щеками, как сухая трава над обрывом. Из ноздрей крупнозернистого носа при каждом выдохе со свистом вылетал воздух, пропитанный неусвоенным алкоголем. На самом деле всё давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно всё выдумал, сложил всё в ящик , провертел в крышке дыру и ушёл… Ушёл спать… Тогда что?
Приходит отец Кабани, закрывает глаза, с-суёт руку в дыру. Я, говорит, это вот самое и выдумывал!.. А кто не верит, тот дурак… Сую руку — р-раз! Проволока с колючками. Скотный двор от волков… Молодец! Сую руку — дв-ва! Умнейшая штука — мясокрутка называемая. Нежный мясной фарш… Молодец! Сую руку — три! Г-горючая вода… Зачем?
Это я, дурак, — от волков… Рудники, рудники оплетать этими колючками… Чтобы не бегали с рудников государственные преступники. А я не хочу!.. Я сам государственный преступник! А меня спросили? Колючка, грят? И мясокрутку мою забрал. Молодец, грит! Глотая ядовитую смесь, он рычал, как вепрь Ы, потом сунул кружку на стол и принялся жевать кусок брюквы.
По щекам его ползли слёзы. Какая же она горючая, если её можно пить? Её в пиво подмешивать — цены пиву не будет! Не дам! Сам выпью… И пью. День пью. Опух весь. Падаю всё время. То красный. То синий. Что вот-вот после особенно удачной его реплики грянут аплодисменты и ценители из Института экспериментальной истории восхищённо закричат из лож: «Адекватно, Антон! Молодец, Тошка! Но для того, чтобы помочь этому человечеству, а не для того, чтобы утолять свой справедливый гнев.
Если ты слаб, уходи. Возвращайся домой. Было время — это чувство бессилия и собственной подлости казалось мне самым страшным. Некоторые, послабее, сходили от этого с ума, их отправляли на Землю и теперь лечат.
Пятнадцать лет понадобилось мне, голубчик, чтобы понять, что же самое страшное. Человеческий облик потерять страшно, Антон. Запачкать душу, ожесточиться. Мы здесь боги, Антон, и должны быть умнее богов из легенд, которых здешний люд творит кое-как по своему образу и подобию. А ведь ходим по краешку трясины. Оступился — и в грязь, всю жизнь не отмоешься.
Горан Ируканский в «Истории Пришествия» писал: «Когда бог, спустившись с неба, вышел к народу из Питанских болот, ноги его были в грязи». А сказано это про нас. Мы не физики, мы историки. У нас единица времени не секунда, а век, и дела наши — это даже не посев, мы только готовим почву для посева.
Да, спринтеры были. Десять лет назад Стефан Орловский, он же дон Капада, командир роты арбалетчиков его императорского величества, во время публичной пытки восемнадцати эсторских ведьм приказал своим солдатам открыть огонь по палачам, зарубил имперского судью и двух судебных приставов и был поднят на копья дворцовой охраной. Корчась в предсмертной муке, он кричал: «Вы же люди! Бейте их, бейте! Ещё огня!.. Меня четырежды останавливал патруль его величества короля Арканарского, и я дважды дрался с какими-то хамами.
Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Руматы Эсторские, спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов. Хорошо, что в Арканаре почти нет верблюдов. Мерзко, когда день начинается с дона Тамэо.
Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере двадцать возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать своё реноме. Половина его агентуры, вместо того чтобы заниматься делом, распространяла о нём отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодёжи.
Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи третья стража, братский поцелуй в щёчку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера , наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии.
Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками! На первом же балу Румата извлёк из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов, с вышивками и монограммами.
А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу. Просто жрущая и размножающаяся протоплазма.
Из классов неслось жужжание голосов, хоровые выкрики. Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений…», «…И бог, наш создатель, сказал: «Прокляну». И проклял…», «…А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики…», «…Когда же пытуемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить…» Школа , подумал Румата.
Гнездо мудрости. Опора культуры…. Он был проклят всеми тремя официальными церквами Империи за неумеренную гордыню, ибо называл себя младшим братом царствующих особ. Он располагал ночной армией общей численностью до десяти тысяч человек, богатством в несколько сотен тысяч золотых, а агентура его проникала в святая святых государственного аппарата.
За последние двадцать лет его четырежды казнили, каждый раз при большом стечении народа; по официальной версии, он в настоящий момент томился сразу в трёх самых мрачных застенках Империи, а дон Рэба неоднократно издавал указы «касательно возмутительного распространения государственными преступниками и иными злоумышленниками легенд о так называемом Ваге Колесе, на самом деле не существующем и, следовательно, легендарном».
Вага вызывал в нём сильнейшее отвращение, но иногда был чрезвычайно полезен — буквально незаменим. Кроме того, Вага сильно занимал Румату как учёного. Мы должны доставить ему эти головы и порадовать его, старика. А с другой стороны, некоторые учёные люди хотят скрыться от гнева моего старшего брата и не пожалеют для этого своих средств. Во имя милосердия и чтобы облегчить душу моего старшего брата от бремени лишних злодейств, мы поможем этим людям.
Впрочем, впоследствии, если его величеству понадобятся и эти головы, он их получит. Дёшево, совсем дёшево….
Я же всё-таки человек, и всё животное мне не чуждо… [2]. Теперь не уходят из жизни, Теперь из жизни уводят. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, не способных ещё подняться над мыслишкой о лишнем медяке… И их ещё нельзя научить, объединить, направить, спасти от самих себя.
Рано, слишком рано, на столетия раньше, чем можно, поднялась в Арканаре серая топь, она не встретит отпора, и остаётся одно: спасать тех немногих, кого можно успеть спасти. Это безнадёжно. Можно дать им всё. Можно поселить их в самых современных спектроглассовых домах и научить их ионным процедурам, и всё равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена.
И не будет для них лучшего времяпрепровождения. В этом смысле дон Кондор прав: Рэба — чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освящённых веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупице из тупиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А дон Рэба не попадёт, наверное, даже в школьную программу. Дон Рэба, дон Рэба! Вежливый, галантный с дамами, внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями… Три года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый.
Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнён, погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников, и словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, каких знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии.
Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шёпотом поговаривают даже, что он и не дон Рэба вовсе, что дон Рэба — совсем другой человек, а этот — бог знает кто, оборотень, двойник, подменыш… Что он ни задумывал, всё проваливалось. Он натравил друг на друга два влиятельных рода в королевстве, чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство.
Но роды помирились, под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли, искони принадлежавший Тоцам Арканарским. Он объявил войну Ирукану, сам повёл армию к границе, потопил её в болотах и растерял в лесах, бросил всё на произвол судьбы и сбежал обратно в Арканар.
Благодаря стараниям дона Гуга, о котором он, конечно, и не подозревал, ему удалось добиться у герцога Ируканского мира — ценой двух пограничных городов, а затем королю пришлось выскрести до дна опустевшую казну, чтобы бороться с крестьянскими восстаниями, охватившими всю страну.
За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке Весёлой Башни, но дон Рэба каким-то образом остался в силе. Он упразднил министерства, ведающие образованием и благосостоянием, учредил министерство охраны короны, снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих учёных, окончательно развалил экономику, написал трактат «О скотской сущности земледельца» и, наконец, год назад организовал «охранную гвардию» — «Серые роты».
За Гитлером стояли монополии. За доном Рэбой не стоял никто, и было очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его, как муху. Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно не знал ничего, кроме параноической задачи — истребить культуру. Подобно Ваге Колесу, он не имел никакого прошлого. Два года назад любой аристократический ублюдок с презрением говорил о «ничтожном хаме, обманувшем государя», зато теперь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии.
Барон возмещал потерю жидкости в течение получаса и слегка осоловел. У вас слишком богатые погреба!.. Широкое лезвие зловеще зашелестело, описывая сверкающие круги над головой барона.
Барон поражал воображение. В нём было что-то от грузового вертолёта на холостом ходу. Этой ночью неодолимое ощущение чего-то страшного, надвигающегося на город, стало таким давящим, таким острым и горьким, что он сдался. Он даже не заметил, как им овладело отчаяние.
Да разве может коммунар, настоящий человек, быть наблюдателем? Разве может землянин спокойно и равнодушно наблюдать всю эту подлость и безобразие? А если не может, то зачем я здесь? Обстоятельства убили во мне человека. Человека больше нет. Есть Румата Эсторский, благородный дон! Так падайте же, дон Румата Эсторский, падайте, чёрт вас возьми.
Падайте вместе со всем этим миром. И он упал. Как-то незаметно для себя он обнаружил, что мир не так уж плох, что безденежные доны — настоящие остряки, а выходки барона просто очаровательны. Он ощутил непреодолимую потребность избить какого-нибудь неприятного типа. И кажется, он неоднократно делал это под одобрительные возгласы собутыльников, и эти одобрительные возгласы чрезвычайно льстили его самолюбию.
Он дошёл до такого состояния, когда всё кажется простым и ясным, и он окончательно понял, что он в самом деле Румата Эсторский, наследник двадцати поколений великих предков, прославленных грабежами и пьянством, а дон Рэба просто жалкий выскочка, которого надлежит осадить, в отличие от короля, личности, несомненно, светлой, хотя и уступающей ему Румате, в родовитости… А суть жизни заключается в том, чтобы безудержно пить, рубить мечами столы одним махом, наискось, пусть все знают , тискать служанок и вообще делать всё, что хочется.
А Земля, Эксперимент — вздор, очень бла-арод-но [К 2] , но совершенно непонятно, как там насчёт баб… [4] — черновик. Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик-часовой с топором наготове. Он слышал, как штурмовик нерешительно топчется сзади, и вдруг поймал себя на мысли о том, что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно, что он уже не играет высокородного хама, а в значительной степени стал им.
Он представил себя таким на Земле, и ему стало мерзко и стыдно. Что со мной произошло? Куда исчезло воспитанное и взлелеянное с детства уважение и доверие к себе подобным, к человеку, к замечательному существу, называемому «человек»? А ведь мне уже ничто не поможет, подумал он с ужасом. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю… Не жалею, нет — ненавижу и презираю. Я могу сколько угодно оправдывать тупость и зверство этого парня, мимо которого я сейчас проскочил, социальные условия, жуткое воспитание, всё, что угодно, но я теперь отчётливо вижу, что это мой враг, враг всего, что я люблю, враг моих друзей, враг того, что я считаю самым святым.
И ненавижу я его не теоретически, не как «типичного представителя», а его самого, его как личность. Ненавижу его слюнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки. Вот он топчется, этот недоросль, которого ещё полгода назад толстопузый папаша порол, тщась приспособить к торговле лежалой мукой и засахарившимся вареньем, сопит, стоеросовая дубина, мучительно пытаясь вспомнить параграфы скверно вызубренного устава, и никак не может сообразить, нужно ли рубить благородного дона топором, орать ли «караул!
И он махнет на всё рукой, вернётся в свою нишу, сунет в пасть ком жевательной коры и будет чавкать, пуская слюни и причмокивая. И ничего на свете он не хочет знать, и ни о чём на свете он не хочет думать. А чем лучше орёл наш дон Рэба? Да, конечно, его психология запутанней и рефлексы сложней, но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиаком и преступлениями лабиринтам дворца, и он совершенно уже невыразимо гнусен — страшный преступник и бессовестный паук. Я пришёл сюда любить людей, помочь им разогнуться, увидеть небо.
Нет, я плохой разведчик, подумал он с раскаянием. Я никуда не годный историк. И когда это я успел провалиться в трясину, о которой говорил дон Кондор? Разве бог имеет право на какое-нибудь чувство, кроме жалости?
Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались. Гур Сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов: — А зачем всё это?.. Что такое правда?.. Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яиневнивору… У них были дети… Я знаю их внука… Её действительно отравили… Но мне объяснили, что это ложь… Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю… Всё остальное ложь и преступление.
Всю жизнь я писал ложь… И только сейчас я пишу правду … Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул: Велик и славен, словно вечность, Король, чьё имя — Благородство! И отступила бесконечность, И уступило первородство! Король перестал жевать и тупо уставился на него.
Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал: — Бесконечность?.. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать. Было в них что-то общее для пришельца с Земли. Наверное, то, что все они почти без исключений были ещё не людьми в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего гордого и свободного человека.
Они были пассивны, жадны и невероятно, фантастически эгоистичны. Психологически почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом — рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом распутных друзей, рабом своих рабов.
Огромное большинство из них ни в чём не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство.
Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться. Но всё-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно, то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далёкого и неизбежного будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Несмотря на гнёт. Несмотря на то, что их затаптывали сапогами.
Несмотря на то, что они были не нужны никому на свете и все на свете были против них. Несмотря на то, что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную недоумённую жалость… Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно.
Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего, что они — фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниёт, начнётся социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы.
Никакое государство не может развиваться без науки — его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей.
Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только притормозить, но не остановить.
Презирая и боясь знания, они всё-таки неизбежно приходят к поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей.
Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им нужны писатели, художники, композиторы, и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку.
Тот, кто упрямится, будет сметён более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу.
Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всём диапазоне — от естественнонаучных исследований до способности восхищаться большой музыкой… А затем приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации общества, эпоха, когда серость даёт последние бои, по жестокости возвращающие человечество к средневековью, в этих боях терпит поражение и исчезает как реальная сила навсегда.
Я мог бы скупить весь Арканар, но меня не интересуют помойки… [2]. Эти акции встретили некое странное противодействие. В то время как весь народ в едином порыве, храня верность королю, а также арканарским традициям, всячески помогал мне: выдавал укрывшихся, расправлялся самосудно, указывал на подозрительных, ускользнувших от моего внимания, — в это время кто-то неведомый, но весьма энергичный выхватывал у нас из-под носа и переправлял за пределы королевства самых важных, самых отпетых и отвратительных преступников.
Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные. Может быть, вы дьявол. Может быть, сын бога. Кто вас знает? А может быть, вы человек из могущественных заморских стран: говорят, есть такие… Я даже не пытаюсь заглянуть в пропасть, которая вас извергла. У меня кружится голова, и я чувствую, что впадаю в ересь. Люди это или не люди?
Что в них человеческого? Одних режут прямо на улицах, другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди.

И каждый думает: кого угодно, только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет, и хладнокровная покорность тех, кого режут. Хладнокровие, вот что самое страшное. Души этих людей полны нечистот, и каждый час покорного ожидания загрязняет их всё больше и больше.

Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо рождаются подлецы, доносчики, убийцы; тысячи людей, поражённых страхом на всю жизнь, будут беспощадно учить страху своих детей и детей своих детей. Серых перебили — это, само собой, хорошо. Но вот насчёт нас, благородный дон, как вы полагаете? Приспособимся, а? Под Орденом-то, а? Кузнец оживился. Я полагаю, главное — никого не трогай , и тебя не тронут, а? Румата покачал головой. Ты один, как перст, да таких перстов вас в городе тысяч десять.
Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, дон Румата, я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков, улицы полны слугами господними.
Я видел: некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников и галантерейщиков.
Осенённые благословением великого Святого Ордена, к которому я всегда питал величайшее уважение и, не буду скрывать, сердечную нежность, мы придём к неслыханному процветанию, когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянина без разрешения, подписанного окружным инспектором Ордена.
Я несу сейчас докладную записку по этому поводу. И цены на вино упали вдвое…. В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. Очередной проситель, благородный дон Кэу, спесиво надувая усы, назвал своё имя.
Дон Кэу запыхтел, багровея, но шляпу снял. Чиновник вёл по списку длинным жёлтым ногтем. Брат Тибак сел. Следующий… К огромному изумлению Руматы, дон Кэу не протестовал. Видимо, он уже всякого насмотрелся в этой очереди.
Он только крякнул, с достоинством поправил усы и удалился в коридор. Барон ревел как атомоход в полярном тумане. Гулкое эхо катилось под сводами. Люди в коридорах застыли, благоговейно прислушиваясь с раскрытыми ртами.
Многие омахивались большим пальцем, отгоняя нечистого.
- Проблемы Богатых Людей
- Цитаты К Фото В Инстаграм
- Как Обогатить Воду Кислородом В Домашних Условиях
- Цитаты Про Семью
- Чему Быть Тому Не Миновать
- Мотивационные Цитаты Про Работу
- Цитатная Характеристика Ленского
- Картинки Рождеством Пресвятой Богородицы
- Плюсы И Минусы Быть Толстым
- Романтические Фильмы На Реальных Событиях